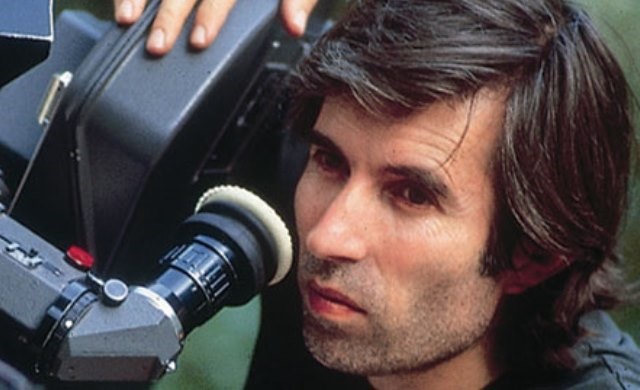«Комната» по-латыни «камера». Жак Дуайон, режиссёр откровенный и деликатный, внимательный и последовательный, запирает своих персонажей в комнатах, квартирах, на чердаках, чтобы устранить из показа отношений весь интерьер. В «камерных» фильмах Дуайона остаются только отношения – зачастую слишком страстные и жестокие. Иногда героям можно выглянуть из комнаты – вдохнуть глоток воздуха, съесть круассан – и обратно, под взгляд обнажающей камеры, играть на разрыв аорты. Какими методами этот певец «странных девчонок» и «плачущих женщин» повышает градус интимности, телесности и замкнутости, перечисляет Дарина ПОЛИКАРПОВА.
После революции: новый аскетизм
Что делать, если ко времени режиссёров-революционеров ты безнадёжно опоздал, родившись на десяток лет позже, и теперь размышляешь – учреждать ли тебе новую революцию или потеряться, спрятаться, притвориться, что снимать можно и так, будто французское кино в последние годы не переживало череды землетрясений, с которыми волей-неволей придётся считаться?
Как и многим французским кинематографистам, пришедшим в кино после «Новой волны» и не желающим подпитываться её эхом, Жаку Дуайону приходилось начинать с аккуратного отделения себя-режиссёра от себя-зрителя, сформировавшегося в момент очень счастливый для второго, но сулящий первому множество беспокойств. Дуайон и режиссёры его поколения – творцы странной революции, выраженной в приостановке всякой революционности. Они – создатели кино, которое, не восставая и не требуя обновления, остерегается программных заявлений. Аккуратно обживая каждый свой угол, режиссёры 1970-х уходили как можно дальше от агрессивных кинематографических техник, возвращая себе власть над зрителем, затосковавшим по человеческому, в торжестве которого кино неминуемо умаляет собственные амбиции, действует украдкой, стараясь себя не обнаружить. Режиссёру нужна недюжинная смелость, чтобы так ловко избегать кино.
Дуайон принял «уличную эстетику», перешедшую его поколению в наследство от «Новой волны», но очистил её от радикального монтажа, ложных соединений, аудио-визуальной асинхронии – от всякого обнаружения кино за работой и от памяти о фильмах уже снятых когда-то и кем-то. Другие режиссёры-аскеты вроде Брессона, а затем Штрауба и Юйе, отказывались от сглаживающих элементов кино – нарратива, психологически достоверной актёрской игры, естественного цвета, всегда помогающих зрителю переварить техническую опосредованность – и выводили на первый план обнажённую кинематографическую схему. Тогда как новый аскетизм 1970-х совершал противоположный ход, свергая многолетний французский культ эстетической выверенности и намереваясь сделать присутствие кино как можно менее заметным. В арсенале этого поколения остались лишь нутряные свойства камеры, подмечаемые глазом, но минующие рассудок, выдающие себя как бы сразу, без требований по-особенному ими воспользоваться: прозрачность линз, направленных на предкамерное пространство, устранение дистанции между объективом и телом, возможность экстремальной близости посредством крупного плана.
Аскетизм такого рода дарует свободу, но не предполагает стиля в традиционном его понимании, где «как» всегда важнее, чем «что». И с конца 1970-х Дуайон начнёт твердить: «что» может быть неслучайным – со временем ему вполне по силам вырасти в метод. И всё же, прежде чем вскрыть измерения свободы, обещанные отказом от формальных экспериментов, нужно было побродить хожеными путями.
Говорить о Дуайоне как о режиссёре, чей метод проглядывает через первые фильмы, – жест лукавый и ретроактивный, возможный лишь с позиции зрителя-знатока, знакомого с поздними работами и из этой перспективы понимающего, на что именно обращать внимание в ранних. На деле же разговор о «Пальцах в голове» (Les doigts dans la tête, 1974) и «Сумке с шарами» (Un sac de billes, 1975) интересен не попыткой привязать совершенно не похожие друг на друга фильмы к общности оформившейся следом манеры, а как раз обратным – возможностью схватить между ними несходства и несогласованности.
Для Дуайона 1970-е – скорее период перебирания разных возможностей в поисках своего материла и метода, еле заметных пока под грудой чуждых его зрелым фильмам условностей. Требовалось время, чтобы найти верных его интонации действующее лиц, что не получилось в дебюте, и предпочесть «малые формы» Большой после неудачи второго фильма, чтобы заданные заранее обстоятельства не застилали чувственную хореографию, раз от раза заново складывающуюся между участниками изматывающих любовных отношений.

Кадр из фильма Жака Дуайона «Пальцы в голове»
После поколений: портрет состояния
«Пальцы в голове» – первый самостоятельный полный метр Дуайона после серии документальных короткометражек и совместной с Аленом Рене и Жаном Рушем работы над фильмом «Год 01» (L’an 01, 1973) – адаптацией политического комикса Жебе, одного из самых известных карикатуристов «Шарли Эбдо».
К середине 70-х чувство творческой свободы Дуйаона ещё не стало заметным в фильмах, но сразу проявилось в экономике их создания. По сути, минималистичность «Пальцев в голове» была продиктована сознательным предпочтением минимального бюджета. Вольный в организации чёрно-белый кадр вмещает быт троих молодых парижан и одной иностранки, состоящий из череды прогулок по улицам, бесед за столиками в кафе и магазинными прилавками и постельных сцен, где участников часто больше, чем двое. Хотя камера, памятуя о революционных находках «Новой волны», продолжает изредка выходить на улицу, заметно, что все события, если и случаются, то только в замкнутых помещениях. Напрасно родители путешественницы Лив беспокоились, отправляя дочь в Париж и прося «не заниматься политикой». Им, должно быть, пока неизвестно, что мекка молодёжных протестов поблекла и опростилась: три парижских товарища не штудируют Маркса, а скромно шествуют по бюрократическим заведениям, чтобы получить компенсацию за несправедливое увольнение.
Трюффо хвалил «Пальцы в голове» за простоту – как раз ту не дурную простоту, свойственную ряду «уличных» фильмов «новой волны» [1]. Критики «Кайе», напротив, обвиняли Дуайона в «новом натурализме» – прямом и безыскусном помещении героев в центр повествования «так, будто бы они всегда там были» [2]. Для политического содержания – нищей жизни французской молодёжи середины 70-х – Дуайон выбирал унылую, заскорузлую форму, полностью отражая наречённую проблему своего поколения – неспособность сделать уверенный самостоятельный шаг.
Всё достойное «Пальцам в голове» перешло от предыдущих десятилетий: отсутствие павильонного лоска, свободный выбор локаций, любовь к непрофессиональным актёрам, преимущество которых Дуайону сразу стали интуитивно ясны. Но незнакомые лица и молодые обнажённые тела не спасли фильм от пресности. «Пальцы в голове» еще слишком держатся сходства с традицией эстетских остранений: деиндивидуализированная парижская молодёжь, эти якобы представители своего поколения, беседующие в тумане сигаретного дыма, заволакивающего чёрно-белый кадр, к середине 70-х превратились в набор визуальных клише, формирующих ожидания от среднестатистического французского фильма нерадикального крыла.
Удивительным образом «Сумка с шарами» ни в чём не совпадала с его первым режиссёрским опытом. Сам Дуайон в интервью относил его, скорее, к своим неудачам [3]. После работы с минимальным бюджетом ему оказалось непривычно тяжело справляться со множеством локаций, персонажей и разросшейся съёмочной группой. Впервые Дуайон снимает кино «большой формы», где заданные заранее обстоятельства определяют координаты действия прежде, чем в него вступят конкретные участники. Подобные исторические фильмы «Кайе» в тот момент клеймил за «ретростиль» [4], так что Дуайон сумел дважды, но по-разному не угодить критикам.
По сюжету, братья Жозеф и Морис в оккупированной Франции пытаются добраться до регионов, где меньше шансов поплатиться жизнью за еврейское происхождение. Знáчимость такой «большой» истории всё время застилает глаза. «Сумка с шарами» до отказа переполнена сценографическими деталями, и рядом с ними теряется самый важный для метода Дуайона процесс – неторопливая работа с актёрами, от которых требуется погружаться в беспамятство, соскабливая с себя налёт предыдущих ролей. Отчасти справиться с этим помогает возраст героев. Ими впервые оказываются дети – в дальнейшем постоянные спутники фильмов Дуайона. Благодаря этому в «Сумке с шарами» и правда находится место удивительной серии заключительных эпизодов, будто бы вырванных режиссером из своего ещё не снятого фильма.
Когда Большая история отступает, на первый план выходят уже совсем не платоническая влюблённость в девочку-ровесницу, первые разговоры о сексе. Сцена, которая наиболее близко подводит этот не слишком камерный фильм к чувствительности, свойственной Дуайону, – продолжительный детский поцелуй, снятый крупным планом, где на время отменяются и вечные отсылки к давящему фону Больших событий, и установка на детскую виктимность – запрещённый, но оттого и часто повторяемый приём в фильмах о войне. Тяжёлый оккупационный опыт будто бы отходит на второй план, а дети отрекаются от бремени образцовой жертвы, опошленного повторяемостью.
В этих бытовых сценах искомый Дуайоном масштаб становится более отчётливым: это не мир больших событий, а возня нескольких людей. Здесь, наконец, и даётся честный ответ на закономерный вопрос: чьё время настало, если «волны» схлынули, портреты поколения (хоть воинственного, хоть опустошённого) пылятся в прошлом, а к историческим катастрофам, формирующим тотальный опыт, единичные души выработали иммунитет? Любое событие отныне переживается как своё собственное, не отсылая ни к какому заданному коллективному опыту. Травмы индивидуальны, и даже если на что-то похожи – они не пример и не иллюстрация хорошо знакомой модели. Начиная со «Странной девчонки» (La drôlesse, 1979), в лучших фильмах Дуайона ни у персонажей, ни у него самого не будет возможности заручиться поддержкой нарративов, которые учили бы определять «правильные» позиции в отношениях – между инвалидом и маленькой девочкой, отцом и дочерью, мужчиной, его женой и его любовницей. Изобретать их дальше каждый раз придется ad hoc и каждый раз – самостоятельно.

Кадр из фильма Жака Дуайона «Странная девчонка»
После молодости: детство
Для своего третьего фильма Дуайон подбирает интонацию, которой за редким исключением будет держаться и впредь – и потому все последующие работы, снятые в 70-е годы и позже, с трудом отделяются друг от друга. Пусть сам Дуайон часто сводит подчёркнутую сдержанность своих отношений с кино к малым бюджетам и желанию работать быстро, спорадическое проговаривание особенностей собственной манеры заставляет обнаружить в этом кинематографическом аскетизме стремление как можно скорее избавиться от всего лишнего, произведя маленькую революцию нереволюционными методами. Вопрос о сохранении малого масштаба, для которого прямота и простота – лучший способ добиться желанной интимности, руководит режиссёрским выбором в пользу ограниченного количества персонажей, относительного единства места и полного единства действия.
Если съёмочный процесс длится дольше, чем следует, или хронометраж фильма разрастается, то происходит это не экстенсивно, а интенсивно. На место длящегося действия, через которое разворачивается панорама контекста, приходит почти болезненное углубление единичных переживаний. Классический сюжет Дуайона – это не история, а ситуация, главный участник которой может быть схвачен в паре слов. «Странная девчонка», «плачущая женщина», «блудная дочь», «пиратка», «пуританка», «влюблённая» – персонажи-переживания населяют фильмы без всякой надуманной связи. Вырастает ли «странная девчонка» в «плачущую женщину»? В кого влюблена «влюблённая»? Каждый фильм – это портрет состояния, не предоставляющий шифра для восстановления мотивов.
Себя как режиссёра Дуайон обретает в отношениях с актёрами: на площадке им позволено действовать не по сценарию, говорить не по тексту, чувствовать не так, как предсказывалось. Из актёрского тела Дуайон помогает родиться фильму, применяя все тонкости повивального искусства. Первый шаг – отказаться от предыдущего актёрского опыта. Второй – открыть в актёре что-то некультурное. Лучше всего с этой задачей справляются люди, лишённые памяти – дети и женщины, похожие на детей. «Детскость» для Дуайона – качество, позволяющее естественным образом быть причастным к утопическому незнанию любых запретов, счастливому неумению увязывать друг с другом причины и следствия. Это особый образ действия, рождённый отказом от знания порядка, которому в фильмах Дуайона дети и подростки следуют интуитивно, а взрослые – безуспешно пытаются соответствовать. Невинность соседствует здесь с порочностью.
В отношениях с детьми Дуайон с самого начала – уже в «Странной девчонке» – позволял себе больше, чем другие режиссёры, не боясь, подобно своим героям, порой показаться провокативным. Он не присматривает, а подсматривает за детьми, украдкой задерживая на них весьма откровенный взгляд – словно бывший школьный учитель, хранящий в альбоме фотографии учеников-пятиклассников как воспоминание о манящей, но недозволенной близости во время обманчиво невинной прогулки. Двенадцатилетняя Мадлен предлагает похитившему её Франсуа, который постарше, хотя и не сильно опытней, «потрогать её», а затем – сделать ребёнка. О такой нестыдливой прямоте, взрослея, героини Дуайона могут только тосковать.
В «Блудной дочери» (La fille prodigue, 1981) Анна, мучимая теперь непроговоренным инцестуальным влечением, вспоминает в беседе с отцом, как в детстве забиралась к нему на живот и начинала неловко двигать бёдрами, имитируя сексуальную близость. Так маленькие девочки, не знающие стеснения, вырастают в плачущих женщин – второй тип любимых персонажей Дуайона, для воплощения которых он находит актрис с амплуа инженю – Доминик Лаффен, Джейн Биркин, а потом и Шарлотту Генсбур.

Кадр из фильма Жака Дуайона «Блудная дочь»
Соитие: до, после, во время
Тонкую линию девичье-женской чувственности Дуайон чертит при помощи тела, на особое положение которого в его фильмах обращал внимание Жиль Делёз, называя «Странную девчонку» поразительным примером «кинематографа поз» [5]. Правда, говорить о теле в фильмах Дуайона вернее всего в связи не с позами, а с процессами. Оно – единственный источник действий и переживаний, которому избыточно чувствительные персонажи способны довериться. Жизнь тела – и впрямь привилегированный процесс для камеры Дуайона, которым с лихвой окупается скудость кинематографических техник. Как раз здесь лишённость технического опосредования перестает восприниматься через нехватку и открывает те самые горизонты свободы для более близкого и прозрачного крупного плана. С его помощью получает искупление и другая скудость, характерная уже не для режиссёра, но для его героев – речевая и рефлексивная.
Описания телесных процессов куда лучше дешифруют чувства девственных персонажей Дуайона, страдающих дисакцией как неспособностью действовать и дислексией как неспособностью справиться с речью. Без тела путанные диалоги Доминик и Жака из «Плачущей женщины» (La femme qui pleure, 1979) шли бы по кругу на манер сломанной музыкальной шкатулки, снова и снова заводящей одну и ту же надоедливую мелодию. Не потому ли умная и циничная Хайде в конце концов оказывается лишней в этой amour à trois, что не хочет поверять своё тело остальным, тщетно ведя серьёзные разговоры, которые всё равно оставляют собеседников безучастными?
Через фильмы Дуайона лучше всего в кино заявляет о себе тезис о свержении «эффектов значения» в пользу «эффектов присутствия» [6]. Тем интереснее, как французское кино, сделавшее память и время центральной проблемой прошлого десятилетия, теперь отступило перед полным беспамятством и неумением скопить хоть сколько-нибудь опыта в лице героев Дуайона. Их тела, растворённые в процессах, располагают себя по отношению друг к другу в пространстве, поверяя почву касанием, поглощением, испражнением и соитием. Между переживанием и жизнью тела не возникает зазора.
В «Плачущей женщине» Доминик выговаривает страдание от потери мужа через жалобы на маточные боли и продолжительный понос. Кровавые выделения – это не метафора страдания, а то, как тело, страдая, себя выражает. Дешифровать жизнь тела может только тело, поэтому герои Дуайона так часто касаются друг друга, а камера неотрывно за этим наблюдает. Чем интенсивнее касание, тем вероятнее будет достигнуто понимание – через поглаживания, объятия, драки, массажи, секс.
В «Странной девчонке» Мадлен и Франсуа сходятся друг с другом потому, что второй знает чудесный рецепт избавления от прыщей. Втирание мази – ритуал на двоих, в ходе которого участники, обречённые на косноязычие, могут быть друг другу близки. Этот процесс повторяется несколько раз, и камера движется вплотную к обнажённой детской шее, прослеживая каждое движение – как отодвигается ворот рубашки, скручиваются в узел светлые волосы, а рука мягко скользит по розовой коже.
Дуайон многое выиграл, отказавшись от чёрно-белой съёмки – кожа с модуляциями бледных, розоватых, красноватых оттенков становится самой киногеничной поверхностью. Сцены поцелуев, объятий и секса у Дуайона не эротичны: тела для камеры – не абрис, а мускулы и соки, перед смешением которых речь неизбежно тавтологична. В «Пиратке» (La pirate, 1984), где таких сцен в избытке, две героини в ласках распадаются на чувственные органы, то и дело мелькающие в кадре, а фоном шепчут банальности, которые так любят бессмысленно проговаривать друг другу влюблённые: «Я так боялась, что больше никогда не увижу тебя, не обниму, не прижму к себе». Впрочем, Дуайон не позволяет забыть, что после соития каждый зверь печален.
Его натурализм повержен сентиментальностью, так что каждый чувствующий орган – ещё и участник изматывающей структуры отношений, полных ревности, растерянности и пустословия. Второй любимый масштаб камеры Дуайона после крупного плана, близкого к телу, – план средний, охватывающий пространство, соразмерное маленьким людям, которым отчего-то мало просто ласкать друг друга – им отчаянно нужно до и после об этом поговорить. «Их» может быть двое («Странная девчонка», «Блудная дочь»), трое («Плачущая женщина», «Пятнадцатилетняя» (La fille de 15 ans, 1989)) [7] или несколько («Пиратка»), но точно – больше одного, чтобы переживание, как бы ни противилось оно типизациям, запираясь в самом себе, всё же включалось в общую хореографию отношений. Для «Понетт» (Ponette, 1996) Дуайон делает исключение, оставляя девочку наедине с камерой и переживанием утраты от погибшей матери без всяких соглядатаев – ребёнок особенный, он «любит как в детстве», чего никогда не достичь взрослому.

Кадр из фильма Жака Дуайона «Плачущая женщина»
Но в остальном отношения героев – всегда игра и спектакль, и чтобы длить их, нужно помнить о своей роли. Тогда это пространство, данное средним планом, и подчеркнутая замкнутость помещений превращаются в сцену, на которой должна разыграться маленькая, лишенная всякого пафоса трагикомедия. Вот в «Пятнадцатилетней» возрастной отец увозит двух влюблённых подростков в загородный дом, чтобы обеспечить единство действия для романтического чувства к девочке, не умеющей выбрать из двух. Вот тот же Дуайон в роли Жака в «Плачущей женщине» приглашает бывшую жену Доминик вести хозяйство в новый дом, чтобы замкнуть трёх участников в одном плане. Анна в «Блудной дочери», для которой важны отношения двоих, совершает обратное действие, последовательно избавляя родительский дом от присутствия лишних: мужа, матери, любовницы отца. Но тот, кто берёт на себя роль кукловода, также ничего не решает, лишь меняя конфигурацию элементов. «Мы решили ничего не делать, чтобы ничего не испортить», – эпиграф к одной из частей «Пятнадцатилетней», который можно было бы легко предложить ко всей фильмографии Дуайона. Запереть людей в помещении, отсечь всех лишних и всё лишнее – любые попытки камеры обнаружить своё присутствие через движение или монтаж – и медленно наблюдать за тем, какой жизнью живут тела, взятые крупным планом, и куда заведет их сцена, развернувшаяся на среднем.
В этой замкнутости на человеческом подчас становится тесно и скучно, но Дуайон в лучших своих фильмах предельно честен и прекрасно сознаёт те два масштаба, которые ему удаются. Снимая раз за разом одно и то же, Дуайон всё же надеется избежать повторений – слишком уж индивидуального подхода к каждому растерянному существу требует его метод. Что до кино, то ему остаётся терпеть навязчивое людское присутствие, усмиряя собственную гордыню. Возможно, так Дуайон воплощает чью-нибудь грёзу – о предельно деликатном кино, полностью дарующем слово чувствам без времени, обстоятельств и непрошеных свидетелей. И такой фильм о любви может обернуться кошмаром – вот любовь перед вами, бессвязная и шатающаяся, тонущая в обыденности и сама от себя устающая.
Со своими героями в объективе одомашненной камеры Дуайон убегает подальше от города – на чердаки, в квартиры и загородные дома, переполненные утварью и мелкими недугами душ, больше не мечтающих сдвигать горизонты. Едва оправившись от революционных волн, благодаря таким режиссёрам, как Жак Дуайон, французское кино приходит к успокоению.

Жак Дуайон в 1979 году
Примечания:
[1] Вероника Бруни. Жак Дуайон. Роден http://www.kultpro.ru/item_685/ [Назад]
[2] Бикертон Э. Краткая история «Кайе дю Синема». СПб., Сеанс, 2019. С. 209-210. [Назад]
[3] Интервью с Дуайоном: https://www.erudit.org/fr/revues/cb/1991-v11-n1-cb1128297/34093ac.pdf [Назад]
[4] Бикертон Э. Краткая история «Кайе дю Синема». СПб.: Сеанс, 2019. С. 203. [Назад]
[5] Делёз Ж. Кино. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013. С. 461-462. [Назад]
[6] Оппозиция отсылает к концепции Ханса Ульриха Гумбрехта. Гумбрехт Х. У. Производство присутствия. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 184 с. [Назад]
[7] О структуре, выведенной Аленом Бергала для фильмов Дуайона: https://www.critikat.com/panorama/retrospective/jacques-doillon/ [Назад]
Дарина Поликарпова