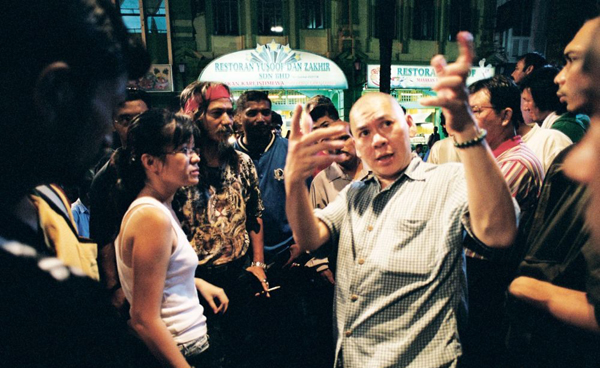Сон первый – Бунтари неонового бога (The Rebels of the Neon God), 1993 – из которого мы узнаем, что нашего героя зовут Ли Сяо-Кан, он живет в Тайбэе в традиционной китайской семье, где вход в дом охраняют прикрепленные к стене свитки с заклинаниями нанесенными иероглифами, внутри на стенах висят нанесенные иероглифами же изречения, а на столе стоит красная пароварка для риса. Кроме того, мы узнаем, что согласно пророчице из храма Феникса Сяо-Кан является инкарнацией бога Норчи. В процессе разворачивания сна мать Сяо-Кана жарит рыбу, а отец работает таксистом. Вместе с Сяо-Каном они едят арбуз и собираются пойти в кино, но планы меняются после того, как Ах Цзе разбивает зеркало его такси. Сяо-Кан намеренно разбивает окно и режет руку, бросает колледж и отец выгоняет его из дома. Но это не мешает Сяо-Кану проучить разбившего зеркало Ах Цзе – он выслеживает его и осуществляет надругательство над его мотобайком. Кроме того, в Тайбэе идет проливной дождь, вода заливает пол квартиры в которой живут Ах Пинг и Ах Цзе, потрошащих уличные телефоны и игровые автоматы, и когда Ах Пинга сильно избивают, ему очень хочется чтобы его обняла девушка, что и делает Ах Квэй, с которой они недавно познакомились. А заканчивается все крупным планом тайбэйского неба, закупоренного тяжелыми облаками.
В своем дебютном фильме Цай Минлян, предъявляет нам кинематограф, эстетика которого, казалось бы, вполне соответствует эстетике итальянского неореализма с его «образом-фактом» [1], преобразующим действия в оптическое или звуковое описание, или французской новой волны, укорененной в по сути той же эстетике, или даже развившимся из нее «кинематографу тела», в котором нет персонажей, но – тела, управляемые не – мозгом, но различными силами, или «кинематографу мозга», в котором тело – всего лишь «нарост», которым повелевает мозг [2].
Даже уже выявившаяся любовь Цая строить длинные планы, в которых камера останавливается на «странных» пустых замкнутых пространствах – оставленных комнатах, туалетах, лестничных клетках, лифтах, затопленному водой полу ванной, по которой плывет тапок, вполне соответствует той любви к безлюдным пейзажам и опустошенным пространствам, которую Делез выявил во все том же итальянском неореализме [3].
В рамках тем неореализма и новой волны все еще держится и история, которую рассказывает Цай. И основной персонаж Цая – Сяо-Кан, бросивший колледж и выгнанный из дома, уже напоминает Антуана Дюанеля Трюффо.
Но новизна Цая Минляна в том, что уже в своем дебютном фильме все те культурные схемы, к которым мы привыкли, репрезентованные посредством определенных кинематографических жестов, образов-клише западноевропейского кино – «любовь», «ревность», «эрос», «предательство», «измена», «одиночество», «некоммуникабельность», «отчужденность» и т.п. – устраняются [4]. Кроме того, все те «образы», которые в западноевропейском кино стали бы символами – метафорами и метонимиями – у Цая уже в первом его фильме – остаются просто – вещами – взятыми едва ли не случайным образом, как почти случайным же образом – без предварительного сценария – Цай строит и сюжет своего фильма, работая в рамках традиции заданной китайской повествовательной литературой, где «… любое событие может задать новый сюжет» [5]. Таким образом, у Цая уже в первом его фильме нет – тем, но – нечто более всего приближающееся к – сновидению, на что работает и отсутствие саундтрека – звуки всегда объективны, а если это музыка – то трансляция по радио или TV, и синефилия Цая. Даже само название фильм – The Rebels of The Neon God – отсылает к культовому фильму Николаса Рея Rebel Without A Cause (1955) с культовым же Джеймсом Дином, портрет которого висит в зале автоматов с видео-играми, где проводят время Ах Пинг и Ах Цзе.
А вообще, кажется, кинематографическое пространство Цая было всегда, и в этом сне оно всего лишь начинает заполняться вещами, персонажами, планами, среди которых уже доминируют длинные, снятые статичной камерой, а подвижность камеры используется главным образом, для того чтобы преследовать персонажей.
Сон второй – Да здравствует Любовь (Vive L’Amour), 1994 – в котором Ли Сяо-Кан работает сейлом в тайбэйском колумбарии и живет в выставленной на продажу квартире, ключ от которой он украл, где его конкурентом за место становится уличный торговец Ах Джанг, заведший сексуальный роман с агентом по недвижимости Май Лин, задача которой – данную квартиру продать. Сяо-Кан режет себе вены, покупает арбуз, на котором отрабатывает поцелуи, а потом использует его как бильярдный шар. Он скрывается под кроватью в то время, как Май Лин и Ах Джанг занимаются на ней сексом, и, оказавшись третьим лишним, мастурбирует. А после того как Май Лин уходит, Сяо-Кан ложится на кровать рядом со все еще спящим Ах Джангом, на голый матрац, и тот – думая что это Май Лин – обнимает его, и в ответ Сяо-Кан целует Ах Джанга.
Хотя фильм, казалось бы, радикальным образом отрывается ото сна – параллельный монтаж используемый для развертывания истории о трех персонажах здесь более жесток, чем в первом фильме, – количество «странного» все-таки удерживает фильм в – сновидении. И дело даже не в том, что Цай продолжает снимать статичной камерой, лишь изредка заставляя ее двигаться, если к этому вынуждают персонажи, которых нужно преследовать, все те же «странные» пространства – пустые комнаты, коридоры, лестницы, делящие диагональю пространство, туалеты, лифты, пустоши, разбитый – видимо недавно и не до конца обустроенный – парк в тайбэйских новостройках, колумбарий – мне кажется, вообще трудно найти более странное место, или – впервые для себя – снимать в зеркалах – отражения и искажения, тени. Дело не в том, что Цай наращивает, в определенной степени выявившиеся как заметная черта его стиля уже в Бунтарях Неонового Бога, беззвучие и бессловесность, тот язык китайской традиции, который «поверяет истину в недосказанном и неправильно сказанном, в провалах речи, одним словом – в молчании» [6].
Дело в том, что Цай все настойчивее отказывается от принципа определенности, и – параллельно с этим – настойчиво же начинает использовать открытое еще Фрейдом сновиденческое свойство игнорирования принципа непротиворечивости [7], сводя его с традицией китайской повествовательной литературы, о которой уже говорилось выше – когда любое событие может задать новый поворот сюжета [8]. Так, уже в первом кадре крадущий ключ человек дан не в фокусе, и мы так определенно и не убедимся, кто из двух мужчин, конкурирующих за право жить в выставленной на продаже квартиру – Сяо-Кан или Ах-Джанг – сделал это. То, что главный герой, которого как и в Бунтарях Неонового Бога, играет Ли Кан-Шен, является тем же персонажем – Сяо-Каном, мы узнаем только по истечению большей части фильма – на его 66-й минуте, когда идентичность Ли Кан-Шена и Ли Сяо-Кана или ее отсутствие уже самостоятельно установлены зрителем – в зависимости от его неофитства или компетентности, или даже произвольным образом. Наконец, сам Цай в своих интервью любил подчеркивать то, что финал фильма, на который уходят последние 10 минут, не обусловлен ничем – первоначально в сценарии он был другим [9] – кроме его желания снять недостроенный тайбэйский парк, в который он помещает Мэй Лин после того, как у нее не заводится машина. Подвижная камера долго провожает ее по этому парку, оставляет, дает панораму, снова возвращается, и – наконец – застывает не ее лице. Длинный крупный – что так нехарактерно для Цая – план, длящийся запредельные 6 минут – показывает как девушка – рыдает, успокаивается, курит, снова начинает рыдать – бессвязно и бессмысленно, по неопределенной причине – то ли оттого что не заводится машина, то ли оттого что не удается продать квартиру, а может быть оттого, что ей приходится заниматься сексом с чужим малознакомым человеком и т.п.
Все это подготавливает нас к тому, что сама реальность может приобрести характер сновидения, главный аспект которого Цай выявляет в план-эпизоде, где Ах Джанг после ухода Мэй Лин обнимает легшего рядом с ним Сяо-Кана, думая что это Мэн Лин. Сяо-Кан целует его и уходит – так что Ах Джанг никогда не узнает, что он на самом деле обнимал Сяо-Кана а не Мэй Лин, и что Сяо-Кан, а не Мэй Лин, целовал его. Две реальности – сновидческая реальность Ах Джанга и действительная реальность Сяо-Кана остаются настолько же объективными, насколько и – различными, т.е. указывают на возможность одновременного существования двух различных объективностей.
И, наконец, именно в этом фильме впервые Цай показывает голую попу Ли Кан-Шена – которая – забежим вперед – станет единственно возможной голой мужской попой в его снах [10].
Сон третий – Река (The River), 1997 – в котором Ли Кан-Шен встречает знакомую девушку, с которой не виделся два года, и идет с ней на съемочную площадку, где режиссер уговаривает его сыграть в снимаемом в этот день эпизоде роль утопленника. После этого девушка отводит его в отель, где Сяо-Кан пытается отмыться, отчиститься, в т.ч. с помощью зубной щетки, от речной грязи, и после этого – занимается с девушкой сексом. В результате у Ли Сяо-Кана начинаются спазмы шеи, развившиеся в короткое время до такой степени, что он не может держать голову прямо и даже падает со своего мотобайка. Мать отводит Сяо-Кана к медиуму, а отец, по прежнему любящий съесть кусок арбуза, водит его по различным врачам – иглоукалывание, мануальная терапия и т.п. В итоге Сяо-Кан попадет в больницу, где ему бреют голову. После бесплодного лечения он устает от боли настолько, что хочет умереть, но отец отвозит его в даосский храм к медиуму же, который также не в состоянии ему помочь. В сауне отеля при храме Сяо-Кан мастурбирует со встреченным в темноте мужчиной, который – как выяснится позже – оказывается его отцом. В доме – в финале – появляется аквариум с большой рыбой, за окном постоянно льет проливной дождь, крыша комнаты отца Сяо-Кана протекает и в конце концов затопляет комнату. А боль в шее – в отличие от дождя – так и не проходит.
Река – milestone в кинематографе Цая. Здесь окончательно оформляется и выявляется сновидческая сущность его кинематографа, сущность опирающаяся на древнейшую китайскую традицию сновидческого восприятия реальности [11]. Игнорирования принципа непротиворечивости работает самым буквальным для сновидения образом – Ли Кан-Шен актер становится Ли Кан-Шеном персонажем – именно так окрикивает его в первом же плане девушка, которую играет дебютировавшая в этом фильме у Цая Чен Шиан-Чуй (Chen Shiang-Chyi), но не пройдет и 10 минут и он же становится уже знакомым нам Ли Сяо-Каном [12]. Подобным же образом в сновидении идентичными могут оказаться даже, скажем, человек и носорог, т.е. один персонаж репрезентуется двумя различными образами [13]. Таким образом, Ли Сяо-Кан и Ли Кан-Шен становятся абсолютно неразличимы, как в китайской кулинарии в силу употребления специй становится неразличим первоначальный вкус продукта, и уже в следующих фильмах Цай вообще перестанет называть имя персонажа, которого будет играть Ли Кан-Шен. При этом идентичность Сяо-Кана Реки с Сяо-Каном даже Бунтарей Неонового Бога, кажется, что – нарушается. Сяо-Кан Реки живет в другой квартире, чем Сяо-Кан Бунтарей – в ней не висят оберегающие свитки перед входом, на стене – китайский пейзаж, а не изречения, и только красная пароварка остается все той же пароваркой из Бунтарей. Хотя мать и отца Сяо-Кана играют те же артисты, они определенно не соответствуют прежним образам. Его отец не работает таксистом, встречается с мальчиками, а мать, работающая в лифте ресторана в торговом центре, имеет любовника занятого в порнобизнесе. Даже то, что они живут в одной квартире подтверждается спустя какое-то довольно длительное время. Но, сила сновиденческого подхода, игнорирования принципа непротиворечивости, неразличимости Ли Кан-Шена и Ли Сяо-Кана уже такова, что история однозначно воспринимается как продолжения истории начатой в Бунтарях Неонового Бога, и продолженной в Да здравствует, Любовь.
И именно подобным – глубоко сновидческим – характером кинематографа, мне кажется, объясняется та удивительная способность Цая заставить не смеяться там, где – казалось бы – больше ничего не остается, никакая иная реакция – невозможна. Сны не бывают смешными. А комическое ощущение, если и возникает, то обуславливается – как это происходит в известнейшей китайской средневековой фантастической эпопее «Путешествие на Запад», рассказывающей о похождении волшебной обезьяны – именно попытками понять похождения главного героя, понять сновидение [14]. Сам же Цай, как-будто выворачивая наизнанку традиционное китайское представление, что для того, «чтобы превзойти все выраженное, художник не может не смеяться когда он совершенно серьезен» [15], в интервью скажет, что каждый раз когда начинает снимать новый фильм, думает, что снимет – комедию. И даже если употреблять слово «ирония» – то это понятие в случае Цая нуждается в дополнительном прояснении и, как мне кажется, разрывает с именно комичным.
Собственно значение Реки еще и в том, что именно здесь становится очевидной эта даосская нацеленность Цая на – «превзойти все (курсив мой) выраженное», что для киноязыка означает превзойти – само зрение, кажется Цай хочет добиться уже тех физиологических особенностей строения человеческого глаза, которые обеспечивают производство неких зрительных – галлюцинаторных – образов, даже в абсолютной темноте, т.е. буквально – при отсутствии непосредственно взгляда.
Несколько планов снятых в почти абсолютной темноте [16], когда разрешение на экране превосходит оптическую чувствительность глаза, затемненность не позволяют достоверно идентифицировать присутствующие в кадре тела, а длительность кадра при этом такова, что от затрачиваемых усилий рассмотреть происходящее, начинает физически резать глаза, и в предельном напряжении хочется отвезти взгляд – как в игре в гляделки. Смотреть фильм становится – физически невыносимо. Кроме того, затрудненность зрения дополняется затрудненностью достоверной интерпретации сюжета из-за сталкивания в любимом Цаем параллельном монтаже различных – кажущихся случайными – что, как мы помним, было унаследовано из китайского романа и выразилось уже в дебютном фильме, сюжетных линий.
Такой же невыносимой в Реке становится и доведенная почти до абсурда – бессловесность. При этом Цай продолжает искать и исследовать и новые «пустые» и «странные» пространства – отражения в зеркалах, туалеты, пустые комнаты, чья пустота из-за темноты/ плохого освещения становится неразличимой, лестницы.
Но при всем этом явно экспериментальном характере кинематографа Цая, все у него работает на то, чтобы выявить все то, что не укладывается в культурные схемы, образы-клише, о которых я писал ранее, добраться до тех истоков, что определяют подлинную, изначальную сущность человеческих от/с-ношений, с-ближения и близости – на чем я остановлюсь позже. С этой точки зрения, я бы сказал, что кинематограф Цая покоится на трех основных столпах – Река, Который там час? и – Лица.
А сам Цай Минлян, отвечая на вопрос об экспериментальном характере своего кинематографа, ответил, что его главный эксперимент в том, что – в каждом своем фильме – он снимает – Ли Кан-Шена [17].

кадр из фильма «Не хочу спать одна» (Hei yan quan, 2006)
Сон четвертый – Дыра (The Hole), 1998 – в котором накануне миллениума в Тайбэе льет нехарактерный для этого времени года проливной дождь, вода сочится по стенам и с потолка, она заражена, и в том числе в связи с этим объявлена эпидемия необычного вируса, получившего название – Taiwan virus, ведущий к Taiwam fewer, из-за чего из определенных районов города эвакуируют людей. В этих районах в связи с эвакуацией отключают коммуникации, в т.ч. – подачу воды, но в квартиру так и не выехавшего Ли Кан-Шена приходят ремонтные рабочие, чтобы устранить утечку отключенной уже воды, для чего освобождается от бетона труба, проложенная – против всех стандартов – в полу. Именно в эту дыру Ли Кан-Шен, работающий продавцом в лавке, куда наведывается его отец – или его тень, призрак, сначала блюет, а потом наблюдает через нее за также как и он не эвакуированной девушкой живущей внизу, в квартире которой от влаги отваливаются обои, но вода в трубах при этом иссякает. Затем он расширяет эту дыру, подает через нее девушке стакан воды, а затем и вообще – втаскивает ее к себе. А еще именно в этом сне, взгляд постоянно натыкается на – часы – настенные и ручные.
Этот сон – единственный фильм Цая календарное время которого указано прямо, это сон происходящий в – будущем – накануне миллениума, возможно поэтому привычное сновидческое состояние, обеспечиваемое как относительной бессвязностью, случайностью нарратива [18], так и «странностью» пространств и затрудненностью зрения, достигается с трудом. Хотя для компетентного зрителя уже то, что в Тайбэе постоянно в канун миллениума идет дождь, противоречащий тайбэйской повседневности, согласно которой декабрь – один из самых сухих месяцев Тайбэя [19], должно в достаточной степени утвердить сновидческое игнорирование принципа непротиворечивости, как и многие другие детали, в том числе ссылки на другие сны Цая Минляна – текущая вода, проливной дождь, пустые замкнутые пространства, андеграунды, наконец, сам глубоко сновидческий образ Ли Сяо-Кана/ Кан-Шена.
В этом фильме Цай не привносит почти ничего нового в свою эстетику – он снова пробует – но в меньшей степени чем в Реке – затемненные, затрудненные для зрения кадры, продолжает снимать «странные» замкнутые пространства – коридоры, лестницы, пустые квартиры, андеграунды, лифты, туалеты, утверждается в том, что использует подвижный взгляд камеры только тогда, когда нужно пре-следовать персонажа, или – в сновидческих музыкальных номерах, которые он здесь впервые вводит. Мне кажется, что именно музыкальные номера в этом фильме, сделанные под определенно сновидческим влиянием песенок Грейс Чанг (Grace Change), почти полувековой давности, врываясь в повествование и обеспечивают ему окончательный статус – сна. Сяо-Кан здесь впервые ни разу не называется по имени, и в том переводе субтитров, что у меня есть он также назван просто – «Man upstairs», но даже это уже не способно поколебать уверенность, что он и есть тот самый Ли Сяо-Кан/ Кан-Шен из трех предыдущих снов.
Еще одно странное воздействие фильма, которое я не могу объяснить, даже когда я его смотрел в первый раз, мне казалось, что – я его уже где-то видел, как это иногда бывает – со сном – хотя этого точно не могло быть.
Сон пятый – Рыба, Подземелье (Fish, Underground), 2001 – в котором Цай Минлян хочет снять фильм о медиуме, говорящем с богом, но бог – по словам медиума – не хочет, чтобы о нем снимали фильм, и тогда Цай пробует снять фильм о религиозной церемонии, которая заканчивается праздником с музыкальными номерами, но во время нее отключается свет. Когда включат свет, начнется – стриптиз, но когда девушка снимет с себя все кроме лифчика и стрингов, съемочной группе запретят снимать. Цай еще какое-то время потратит на то, чтобы найти объект для съемки, но в итоге перейдет к бессвязным планам рыб, в основном мертвых, и подземелий, а в конце все-таки снимет работу медиума – его разговор с богом, и – конечно, с людьми, а закончит – неподвижным небом – тусклым, закупоренным тяжелыми облаками.
В отличие скажем от Раймонда Депардона, Цай не изменяет своей эстетике медленного и «странного» даже в своем единственном документальном фильме [20]. Планы остаются такими же длинными и статичными – разве что заметно подрагивание ручной камеры, такими же бессловесными и сновидческими, речь впущена в фильм только в своем механическом проявлении – трансляции по радио, TV, а главным объектом Цая становится – Пустота – в первую очередь «странная» пустота подземных переходов.
Согласно, пожалуй одному из самых известных мифов даосского трактата Чжуан-цзы, в мире есть три флейты – созданная человеком бамбуковая флейта, флейта Неба и флейта Земли. Суть каждой из них – то отверстие, та пустота – которая позволяет флейте звучать. Флейта Земли [21] представлена всеми пустотами и полостями в природе – т.е. по сути теми подземельями, замкнутыми пустыми пространствами, которые с самого первого своего фильма снимает Цай [22]. А Флейта Неба – его абсолютная пустотность, абсолютная бездна – та самая мировая пещера (=пустота) – Великая Утроба, вмещающая в себя все сущее, делающая возможным всякое бытие [23] – конечно, тем самым последним планом тайбэйского, видимо, неба.
Я думаю, что это самый глубокий из снов Цая, настолько глубокий, что после пробуждения нельзя вспомнить ничего кроме бессвязных образов – рыб и подземелий, ну и недосмотренного стриптиза конечно. А еще, нелишне вспомнить, что согласно известному средневековому китайскому критику Чжан Юю – вершина искусства – это – «отсутствие замысла» [24].
Сон шестой – Который там час? (What time is it over there?), 2001 – посвящается отцу Ли Кан-Шена и отцу Цая Минляна – в котором у Ли Сяо-Кана умирает отец, его прах со всеми полагающимися церемониями выполненными очередным медиумом помещен в колумбарий, а дух, по мнению матери Сяо-Кана, переродился, возможно, в виде – таракана, которого Сяо-Кан скормил большой рыбе в китайской традиции символизирующей новое рождение [25], той самой, что все еще живет в аквариуме у них в доме, где старую красную пароварку заменили на – новую – оливковую. После этого, мать, как и сам Цай [26], начинают считать, что, возможно, отец стал этой самой рыбой, но, возможно, так и не переродился и постоянно присутствует в квартире. На самом же деле, вместе с часами с dual-time, которые Сяо-Кан продал незнакомой девушке – Шиан-Чуй, дух отца перемещается в Париж – город Елисейских полей – элизиума – полей смерти [27] – и поселяется в одной с ней гостинице. С той же параноидальной настойчивостью, с какой мать Сяо-Кана пытается приспособить квартиру для новой формы существования своего мужа, Сяо-Кан переводит все доступные ему часы – на своем лотке, в магазинах, и – даже – тайбэйских небоскребах – на 7 часов назад – на парижское время. Кроме того, он смотрит французский фильм в полупустом кинотеатре с красными плюшевыми креслами, прижав часы с переведенным временем к своей груди, пробует парижское красное же вино, уличную проститутку, и фильм 400 ударов, где узнает себя в Антуане Дуанеле, которого на карусели «ломает» также как в Реке «ломало» Сяо-Кана. Однако, ни Антуана Дуанеля, ни Сяо-Кана в нем, ни даже – самого Жан-Пьера Лео не узнает в сидящем рядом с ней на скамеечке на парижском кладбище Пьер-Лашез, Шиан-Чуй. В финале три пары пробуют заняться/ занимаются сексом – мать Сяо-Кана с духом его отца, сам Сяо-Кан с уличной девушкой, Шиан-Чуй с встреченной в Париже девушкой из Сянгана (Гонконг). В результате, у Сяо-Кана пропадает чемодан с часами, а пропажу чемодана Шиан-Чуй предотвращает только дух отца Сяо-Кана – по-парижски элегантный и всемогущий настолько, что он, кажется, обращает вспять само время – колесо обозрения после одного только его взгляда – набирая обороты – начинает крутиться против часовой стрелки.
Фильм посвящается умершим отцам Ли Кан-Шена и самого Цая Минляна, и менее всего из всех его фильмов является именно – сном. Затрудненность зрения, работа на его пределе сведена к приемлемому для Цая минимуму – здесь нет предельно длинных планов, нет предельно «затемненных» планов. Так же к приемлемому минимуму сведена и «странность» в них. Цай все еще снимает – туалеты, пустые комнаты, полупустой кинотеатр, замкнутые пространства, но все прошлые андеграунды Цая как будто бы реализуются в – настоящей парижской подземке. После смерти отца мир стал – другим. Все изменилось – даже цвет пароварки. Симптоматично также, что только после смерти отца Сяо-Кан наконец находит своего «двойника» – узнает себя в Антуане Дюанеле – только смерть отца делает человека – самостоятельным.
Как это ни парадоксально, это первый фильм Цая, где с одной стороны нет ни одного плана снятого подвижной камерой, с другой стороны – первый фильм снятый точно согласно детально проработанному сценарию [28]. Здесь все происходит на другом пределе – пределе яви – в конце концов, невозможно по-настоящему глубоко заснуть, если у тебя умер отец и ты начинаешь бояться темноты до такой степени, что не идешь в туалет ночью, а писаешь в найденный в комнате целлофановый пакет, а на следующую ночь готовишь пустую бутылку – как это делал после смерти своего отца сам Цай [29]. Возможно, именно поэтому Цай для работы в фильме выбрал европейского оператора – Бенуа Делема – ему нужен – другой цвет, другая резкость, другая длительность и, возможно – точность позиционирования и хронометража. Камера оказывается как будто бы – прирученной, как приручена в этом сне – вода. Если она и не удерживается где-то – то только в мочевом пузыре Сяо-Кана – указывая на погрешности в работе почек, в китайской традиции и репрезентующих в человеческом теле Стихию Воды [30].
Но сновидческая сущность кинематографа Цая такова, что для искушенного зрителя Чен Шиан-Чуй, дебютировавшая 10-ю годами ранее у Эдварда Янга [31] – несмотря ни на что – и в силу игнорирования принципа непротиворечивости – ассоциируется не только с девушкой из Реки, которую она и сыграла, но и – с девушкой из Дыры, которую сыграла Янг Куи Мэй (Yang Kuei-Mei), ранее сыгравшая также Май Лин в Да здравствует, Любовь, девушку из отеля в Реке, а позже – в эпизоде в Goodbay, Dragon Inn и чуть больше – в Капризном облаке. Если кому интересно, в парижском отеле Чен Шиан-Чуй укрывается одеялом с изображением тигра, который в китайской традиции есть символ – чувства [32].
Отдельное спасибо, за то, что Цай придумал самый точный для Жана-Пьера Лео – Антуана Дуанеля, так и не повзрослевшего, как и у Трюффо, жест – с той уверенностью, которая никогда не расширится добавлением приставки само– когда Шиан-Чуй на его вопрос, что она ищет, отвечает – записанный телефон, он пишет ей свой номер и учит произносить свое имя – Жан-Пьер.
Сон шестой – продолжение – Надземный переход куда-то подевался (The Skywalk Is Gone), 2002, – в котором вернувшаяся в Тайбэй Шиан-Чуй разыскивает Сяо-Кана – вероятно, чтобы вернуть ему часы – но skywalk (надземный переход), где он торговал часами, а также сам Сяо-Кан – исчезли, как будто бы их никогда и не было, как будто бы и Сяо-Кан и часы Сяо-Кана Шиан-Чуй – приснились. Вместо надземного перехода построен так любимый Цаем подземный тоннель – андеграунд. Но Шиан-Чуй о нем не знает и перебегает дорогу по верху, вместе с незнакомой ей матерью Сяо-Кана, из-за чего обоих останавливает дорожный полицейский. Кроме Сяо-Кана, Шиан-Чуй теряет удостоверение личности, а в Тайбэе вводят нормирование воды, которой не хватает из-за сильной засухи, и Шиан-Чуй не может выпить кофе, от которого ее тошнило в Париже, а Сяо-Кан вымыть руки после туалета. Шиан-Чуй съедает рис и бродит по городу, посещая те места, где – возможно – она когда-то встречала Сяо-Кана или Ли Кан-Шена – например, знаменитый эскалатор из Реки, и в итоге встречает его на лестнице – но не замечает, так же как не заметила что Жан-Пьер Лео на Пьер-Лашез и Сяо-Кан – одно. Сяо-Кан же спешит на кастинг для съемки порнофильма, который небезуспешно проходит, его облачают в белый халат доктора, вручают стетоскоп и отправляют на съемочную площадку, куда видимо отправляется и Ли Кан-Шен – сниматься у Цая или снимать свой собственный дебютный фильм (The Missing, 2003). По тайбэйскому небу плывут облака, и – сон прерывается – как будто прозвенел будильник или сновидение стало настолько глубоким, что его не удалось запомнить.
Этот двадцатиминутный фильм хронометрически поделен на две равные части – в первые десять минут камера следит за Шиан-Чуй, скользя по отражениям на амальгаме поверхностей тайбэйских небоскребов, вторые – за Сяо-Каном. Так же часто кадр разделен на две вертикальные части – одна из которых – амальгама небоскреба и отражение в нем, вторая – реальное пространство, так что ассоциация с концептуальной двойственностью даосского бытия – понятиями инь и ян – неизбежны. А сновидческое игнорирование принципа непротиворечивости здесь особенно изощренно. То, что Шиан-Чуй ищет Сяо-Кана на эскалаторе из Реки, как будто бы устраняет существование другого сна – Который там час?, встретившись где, они были не знакомы. То есть, Цай как-будто и помнит и не помнит, что тот и другой фильмы (=сны) – были, начиная превращения всего в совершенный Хаос, а Шиан-Чуй-персонаж и Шиан-Чуй-актриса – по аналогии с Ли Кан-Шеном/ Сяо-Каном, его родителями становятся – абсолютно тождественны.
А вообще с того самого момента, когда я впервые побывал в Восточной Азии, у меня сразу же появился вопрос – зачем строить подземные переходы, а не – повсеместные в Азии skywalk’и, которые на мой взгляд и более дешевы и более практичны. Но это к сну Цая, конечно, отношения не имеет.
Сон шестой – продолжение после долгой паузы – Капризное облако (The Wayward Cloud), 2005 – в котором Шиан-Чуй наталкивается на Сяо-Кана спящего на качели в тайбэйском дворике, ждет пока он проснется, но засыпает сама, а сам Сяо-Кан, открыв глаза и увидев Шиан-Чуй еще долго не верит, что видит ее не во сне, что он – проснулся. В Тайбэе сохраняется острая нехватка воды и из всех видов жидкости максимально доступны – арбузный сок и сперма. Первый пьет Шиан-Чуй, смотря ТВ-шоу, поместив между своих ног подушку с изображением лотоса – общеазиатский символ чистоты, вторую растрачивает, снимаem/pЯ думаю, что это самый глубокий из снов Цая, настолько глубокий, что после пробуждения нельзя вспомнить ничего кроме бессвязных образов – рыб и подземелий, ну и недосмотренного стриптиза конечно. А еще, нелишне вспомнить, что согласно известному средневековому китайскому критику Чжан Юю – вершина искусства – это – «отсутствие замысла» [24].ющийся в порнофильмах Сяо-Кан, отрастивший небольшую бородку. В своих порнофильмах он трахает различными способами: 1) арбуз, лежащий между ног порно-актрисы – пальцем, 2) во влагалище членом – своих партнерш, одна из которых очень сильно похожа на его маму [33], а другая – потеряла сознание, фактически – труп, 3) членом в рот – в финале – саму Шиан-Чуй, обнаружившую наконец, что ее Сяо-Кан – бес-чувственный трахальщик порнофильмов. Кончив вместе с Сяо-каном, она тесно прижмется ртом к его паху, при пристальном рассмотрении гораздо больше похожим на лобок женщины с его жесткими поднимающимися клином вверх волосами.
Цай такой же хулиган как и, скажем, придумавшие шизоанализ Делез и Гваттари, или – «трахнувший» философию Рорти – он всегда готов что-нибудь выкинуть – от – белого флага капитуляции, до – белой простыни экрана или даже – целого матраса – не какого-нибудь, а являвшегося вещественной уликой в деле о гомосексуализме малазийского заместителя премьер-министра Анвара Ибрахима 1999-го года – как в своем следующем сне. В этом фильме становится очевидно, что Цай иронизирует (= трахает) не только основные символы традиционной китайской культуры – вода, облака, тело – но и тайваньской политической действительности – в одном из музыкальных номеров поющие о любви девушки, лобызают ноги самого бронзового многометрового Чан Кай-Ши, декорированного лотосами, бежавшего после проигрыша в гражданской войне Мао Цзе-Дуну на Тайвань и ставшего его диктатором и «священным символом». Но ирония Цая, его траханье, как и ранее, не приводит к эффекту комического, не устраняет саму традицию введшую эти символы, или образы политики, но работает сообща с ними, углубляет и укрепляет ее – т.к. в сновидении, обеспечивающемся в этом фильме не затрудненностью зрения, затемненностью, но – как уже стало привычным в этом сне, начатом в Который там час? – игнорированием принципа непротиворечивости, бессвязностью, случайностью движения нарратива, доходящему здесь до своего предела – включения бессмысленных музыкальных номеров, которые усиливаются по мере продвижения к финалу, где – фильм запутывается в самом себе, а камера наконец-то начинает двигаться – приближаясь к Шиан-Чуй наблюдающей через окно как Сяо-Кан трахает бесчувственное тело порно-актрисы.
Цай начинает свой фильм с длящегося почти полторы минуты плана, на котором в типичном цаевском андеграунде, освещенном люминисцентными лампами, где теряется взгляд, и – до того момента, пока он найдет себя – пройдут: одна девушка – слева направо, другая – справо налево. Именно у второй, позже, между ног будет лежать арбуз, который и трахнет пальцами, появившийся из предыдущего сна в том же белом халате доктора, Сяо-Кан.
Можно бесконечно исследовать как пространство кадра, так и – пространство самого фильма, как это уже приучил делать Цай, обнаруживая те образы/ символы, которыми поиграл (=трахнул) Цай и бесконечно же перечислять их, начиная наверное с того предела, до которого Цай довел свой ню-ар/ ню-арт/ нью-арт и т.д. в изображении женского тела. Именно здесь Цай впервые показывает обнаженную женщину – детально – грудь, соски, лобок, ягодицы – нарушая существеннейшую китайскую традицию целомудренного прикрытия тела, недопустимость «обнаженной натуры» [34]. Цай, ранее допускавший в свои фильмы только голый зад Ли Кан-Шена, здесь бесцеремонно и бесчувственно показывает жесткий волос на женском лобке, впитавший арбузный сок, женщину трахающую себя бутылкой во влагалище, женскую грудь, которую вылизывает Сяо-Кан, бесчувственное мертвенно-белое женское тело, которое трахает Сяо-Кан – монтируя все это со – стеллажами заполненные бессчетными DVD с порнофильмами. Здесь Цай трахает символизм Воды, являющейся, как мы помним, одной из основных стихий китайского мироздания, символизирующей вечное движение, чистую текучесть и являющуюся двойником всех образов [35] Воды здесь катастрофически не хватает, притом не только для пищи, но и – коммерческих целей – например, чтобы закончить сцену в порнофильме, однако в достатке – туалетной бумаги, которую Цай вообще любит снимать, начиная со своего дебюта, но за этим образом я не уследил. Вода есть только в тайбэйских каналах, по которым плывут всеприсутствующие арбузы, – но о ее качестве мы знаем по Реке – и в каких-то странных водохранилищах на крышах, а из водопроводных кранов – идут пузыри. Цаевские андеграунды – как уже упоминалось ранее – т.е. пустоты в замкнутых пространствах – коридоры, туалеты, лифты – явная отсылка к Пустоте Дао – в данном случае в первую очередь – вместилища для съемок порнофильмов, а кроме того – вместилища муравьев, которые настолько назойливы, что одна из девушек едущих в лифте обнажает грудь, срывая с себя лифчик. В одном из музыкальных эпизодов появляется – Дракон, универсальный китайский символ «превращения» [36]. И т.п.
Но кроме того, кажется, Цай трахает и эстетику порно – с ее длинными же однообразными планами снятыми с руки статичной камерой, с ее минимализмом, и эстетику TV-шоу, которую он сталкивает с эстетикой порно, указывая на их тождественность, монтируя Сяо-Кана, трахающего арбуз, с идущему по телевизору шоу, где идет соревнование кто больше/ быстрее съест арбуз, а потом – дальше плюнет. Возможно, Цай трахает саму эстетику – кинематографа.
Но все это нужно лишь для того, чтобы выявить некую подлинную, изначальную сущность человеческих от/с-ношений, сближения и близости – невыразимую и интимную, которую можно в китайской традиции описать? как сущность со-сущестования инь и ян. И Цай создает в рамках этой парадигмы фантастические по своей запоминаемости образы, вытесняющие из этого сна после пробуждения все остальные. Так Сяо-Кан, лижущий лежащий на месте влагалища женщины арбуз, вытесняется Шиан-Чуй – позже – целующей осторожно, потом смелее – взасос, лежащий в ее холодильнике арбуз, как в Да здравствует, Любовь это делал сам Сяо-Кан. А Сяо-Кан, трахающий пальцем арбуз, лежащий между ног девушки, стон девушки, переходящий в – крик, вытесняется стоном же переходящем в крик, Шиан-Чуй рожающей этот арбуз – что мир – из своего лона. Наконец, с момента случайной встречи на качели, которая очень трогательна сама по себе, Сяо-Кан и Шиан-Чуй ведут себя как невинные/ наивные любовники – как не вели себя ни в одном сне Цая – он выковыривает для нее ключ из асфальта и готовит лапшу, она – готовит соус к лапше и угощает его арбузным соком; они дурачатся, ловят расползшихся приготовленных к ужину крабов; Цай устраивает потрясающий по своему эстетизму театр теней; дает сцену совместного курения, когда сигарета зажата между пальцев ног Шиан-Чуй; наконец, после ужина Сяо-Кан, как это и подобает сделать невинному/ наивному любовнику, провожает Шиан-Чуй до лифта, хотя они, кажется, и были у него в квартире. А вернувшись к себе, Шиан-Чуй сверлит взглядом потолок, как будто пытаясь проделать в нем дыру в квартиру Сяо-Кана на верху, а потом целует свой арбуз, о чем я уже упоминал.
Пересказывать этот фильм, так же увлекательно, как и пересказывать свой сон, но, возможно, настолько же не интересно об этом читать, как не интересно и выслушивать чужой сон, если конечно ты не психоаналитик и не зарабатываешь на этом деньги.
А вообще-то, Цай хотел снять фильм – комедию – о бабушке, обнаружившей, что ее внук работает в порнобизнесе, но потом поменял бабушку на молодую девушку – Шиан-Чуй [37], а история с арбузами вполне достоверна – когда в реальном Тайбэе не хватало из-за засухи воды, правительство рекомендовало восполнять недостаток влаги в организме – арбузным соком.

кадр из фильма Goodbye, Dragon Inn (2003)
Сон седьмой – Good Bye, Dragoon Inn, 2003 – в котором в Тайбэе по прежнему идет проливной дождь, а в полупустом кинозале с красными плюшевыми креслами кинотеатра Фу-Хо, с протекающей , как и в большинстве снов Цая, крышей, накануне закрытия идет фильм Dragon Inn 1967-го года [38], в котором состоялся дебют Тьена Мяо (Tien Miao), умершего вскоре после выхода фильма Цая, неизменно играющего отца Сяо-Кана, как мы помним, в свою очередь умершего в первой части предыдущего сна. Его призрак – Тьена Мяо или отца – наряду с призраком своего соперника по фильму 67-го года – посещает сеанс. Хромая девушка Шиан-Чуй служит в этом кинотеатре продавщицей билетов, а Ли Кан-Шен – киномехаником, заряжающим пленку и демонстрирующим фильм. Но оба большую часть фильма отсутствуют [39], а в фокусе оказывается незнакомый персонаж, который почему-то кажется – Сяо-Каном. Зал, где демонстрируется фильм, во время сеанса заполнен различными странными персонажами, которые исчезнут все до одного, когда зажжется свет. И только после этого, медленно, вслед за хромающей Шиан-Чуй из замкнутых пространств кинотеатра мы выберемся в кажущийся не менее замкнутым заштрихованный дождем Тайбэй.
Кинозал кинотеатра, чьи вспомогательные помещения – все те привычнее для Цая замкнутые пространства – туалеты, с одной стороны у Цая являющиеся эталонами «каких-угодно-пространств», с другой стороны – местом, где достигается наибольшая интимность, андеграунды, коридоры, кабинка оператора – подробно отсняты, напомнивший Цаю кинозалы его детства [40], кажется, уже был запечатлен в Который там час? – в нем сидел Сяо-Кан, прижав к груди переведенные на 7 часов назад – на парижское время – часы. Но здесь – кинотеатр, с его «странными» замкнутыми пространствами и кинозалом с идущим в нем старым фильмом, с его выключенным светом и затемненным пространством, затрудняющим зрение, уже и есть само сновидение – в нем – темно, странно, и – он перестанет существовать уже завтра – после сегодняшнего последнего сеанса, в сне Цая завершающегося очень длинным неподвижным планом пустого кинозала [41]. Этого, казалось бы, должно быть достаточно, чтобы принять навязываемого нам незнакомого персонажа за – Сяо-Кана, как можно было принять в приводимом ранее сне и Х. и носорога за одного человека. Но в этот раз Цай кажется просчитался – для компетентного зрителя эта замена разрушает сновидческое ощущение, и фильм гораздо интереснее вспоминать – купируя «нового» псевдо-Сяо-кана, чем – смотреть. Но в результате этого купирования, цензуры, когда выявляется, что хромающая медленно идущая по длинному коридору Шиан-Чуй как нельзя точнее соответствует медленному «мерцающему» слежению за ней камеры – медленному построению плана, то понимаешь, что пределы этой эстетики медленного Цаем еще не достигнуты, и сон/ фильм хочется повторять и повторять дальше – как любой сон – уточняя детали и выявляя новые смыслы – не случайно его так любят некоторые кинокритики [42]. Забавно, что римейк фильма 1967го года [43], являющегося No. 7 in the Hong Kong Film Awards’ List of The Best 100 Chinese Motion Pictures [44], фактически параллельно с фильмом Цая снимался в Гонконге – правда уже без Мьен Тьяо, а кинотентр Фу-Хо, который Цай выкупил для съемок фильма в последние месяцы своего существования функционировал на деньги местного гей-коммьюнити [45].
Сон восьмой – Не хочу спать в одиночестве/ Темные круги под глазами (I Don’t want to sleep alone/ Hei Yan Quan), 2006 – в котором Ли Кан-Шена – патлатого, с отрощенной еще в Капризном облаке бородкой, избивают в Куала-Лумпуре серьезные ребята помогающие фальшивому медиуму продавать выигрышные номера предстоящей лотереи, после чего его бесчувственное тело c темными кругами под глазами подбирают стащившие с помойки матрац гастарбайтеры из Южной Азии. Один из них – Раванг – начинает его выхаживать – кормит с ложки, как новорожденного ребенка, дает лекарства, водит в туалет, стирает одежду. Так же как Раванг выхаживает одного Ли Кан-Шена, различные люди выхаживают второго – с выбритой как в Реке головой бездвижно лежащего в больничной койке, то и дело оказывающейся в выглядящих по разному комнатах. Когда первый Ли Кан-Шен поправляется настолько, что может двигаться – он исчезает из своего угла с завешенным москитной сеткой матрацем, под плакатом I Love You и фигуркой Будды, и начинает странствовать по городу, не умея ни с кем объясниться. Он присаживается перед торговцем, продающим светящиеся «цветы», просиживает перед дверями кафе, в котором работает Шиан-Чуй, и – наконец – попадает в затопленный андеграунд недостроенного дома, где в то время как он сидит на берегу с чем-то похожим на удочку, на его плечо садится бабочка. Куала-Лумпур окутывает смог, затрудняющий не только зрение, но и – дыхание, люди вынуждены носить респираторы, а когда Ли-Кан Шен, взяв за руку Шиан-Чуй, уводит ее, и – оставшись одни – сняв респираторы, они начинают целоваться – задыхаются, не могут заняться сексом. Но вскоре они находят выход в том, что – похищают матрац Раванга и убегают с ним туда – «где нет памяти, где не больно дышать» – туда где Кан-Шен ранее встретил свою бабочку – в затопленный водой андеграунд, где засыпают, и во время сна Кан-Шену едва не перерезает горло краем вскрытой крышки консервной банки, выследивший его Раванг – то ли из-за неразделенных чувств, то ли из-за кражи матраца. После чего – втроем – они уплывают на все том же – траченном телами и насекомыми, источенном, истертом – матраце, конечно же – обнявшись.
Цай снимает уже на пределе – возможностей кино, возможностей восприятия – и даже – возможностей сновидения, на пределе зрения, как начал делать это еще в Реке, кажется, рассчитывая уже на оптические эффекты присущие не – проекции света на экран, но – самому зрению – зрачок напрягается, режет глаза, иногда кажется, что – статичное изображение на экране – дрожит, как при землетрясении. Любимые замкнутые пространства Цая, его андеграунды становятся еще более странными – недостроенный высотный дом с торчащей – что трава – арматурой затопленный водой, больничная койка Ли Кан-Шена, постоянно оказывающаяся в различных интерьерах. Трубка катетера вставленного в его нос ни к чему не присоединена. В итоге же все пространство кадра заполняется туманом/ дымом/ смогом, как это и принято в китайской живописи, равной, как мы помним, сновидению, для экранирования действительности [46], затрудняющим уже не только зрение, но и само – дыхание. Как бы в насмешку – к середине фильма Цай делает один план, снятый подвижной камерой, как обычно для него – следя за перемещающимися персонажами.
Ли Кан-Шен здесь играет две роли – один Ли Кан-Шен, его коротко бритая голова, отсылает к Сяо-Кану Реки, а второй – из-за своей короткой бородки – к Сяо-Кану Капризного облака. В субтитрах один персонаж указан как Homeless Guy, а другой – Paralasid Guy, но в документальном фильме о съемках Не хочу спать в одиночестве вышедшем двумя годами позже – Sleeping in the Dark Water [47], Цай называет Ли Кан-Шена – Сяо-Кан – т.е. актер и персонаж неразличимы уже и для самого Цая. Возможно, Сяо-Кан стало даже «домашним» именем Кан-Шена. Собственно, начиная с Дыры Цай и перестает указывать имя героя, которого играет Ли Кан-Шен. Но все это, собственно, уже и не важно. Сновидческая тождественность – Ли Кан-Шена, Ли Сяо-Кана, Цая Минляна (после Который там час? Посвященного отцам обоих), Антуана Дюанеля, Жана-Пьера Лео уже установлена.
Но все точки над i расставляет – бабочка, садящаяся на плечо Ли Кан-Шену – со времен Чжуан Цзы (вторая половина IV в. до н.э. – нач. III в. до н.э.), образ настолько укоренившийся в китайской культуре, что вполне подходящий для ее репрезентации во внешнем для китайской традиции мире. Согласно афоризму Чжуан Цзы, однажды когда он спал, ему приснилась – бабочка. Но когда он проснулся, он не знал – то ли он Чжуан Цзы, которому приснилось, что он – бабочка, то ли он – бабочка, которой приснилось что он – Чжуан Цзы [48]. На этом примере Чжуан Цзы объяснял, что такое – «превращение вещей».
Наверное, можно бы было и закончить этот сон бабочкой, которая объясняет все «превращения вещей» – Ли Сяа-Кана в Ли-Кан Шена, в Цая Минляна, в Антуана Дюанеля, в Чен Шиан-Чуй, в его отца, в рыбу, в Пустоту андеграундов, в тайбэйское небо, в протекающую воду и т.п., подводит к – пределу понимания, обусловленного не ограниченностью коммуникации, но – отсутствием общего Языка. Однако, сон на то и сон, что он длится вне зависимости от желания, продолжается даже если он кажется логически законченным. Возможно, это происходит потому, что – не хочется просыпаться, но скорее всего – потому, что еще существует некое несовершившееся превращение.
А вообще-то, фильм является частью программы, подготовленной к юбилею Моцарта, и в связи с этим в нем звучит мелодия из Волшебной флейты, а образы Ли Кан-Шена с «темными кругами под глазами» и матраца – ссылка на совершенно определенную историю – как это уже было в Капризном облаке. «Темные круги под глазами» – так в оригинале назван фильм – описывающее то состояние, в котором Раванг нашел Сяо-Кана – намекает на один политический скандал в Малайзии. В 1999 г. один из заместителей премьер-министра Малайзии Анвар Ибрахим (Anwar Ibrahim) был приговорен к тюремному сроку за гомосексуализм. В течении уголовного процесса, матрас был представлен в качестве одного из вещественных доказательств и обвиняемый предстал перед судом с синяками под глазами полученными вследствие насилия полицейских.
Сон (It’s a dream), 2007 – в котором Цай Минлян, его мать и отец = Ли Кан-Шен едят дыню в зале кинотеатра с красными креслами, а потом – вместе с фотографией бабушки по материнской линии – сидят в этом же зале и смотрят какой-то фильм.
Всего лишь 3-х минутный ролик из сомнительного проекта Каннского кинофестиваля У каждого свое кино, снятый пятью планами, что могло бы согласно китайской символике цифр соответствовать пяти стихиям/ первоэлементам [49], где не развернуться ни эстетике медленного, ни сновидческого, важен в первую очередь тем, что здесь устанавливается идентичность Ли Кан-Шена и отца Цая Минляна, без которой в следующем фильме было бы невозможно прекращение/ превращение вещей в пространстве Цая, ну и конечно то, что сам фильм назван – напрямую – сном.
А еще, именно здесь, мне кажется, уместно напомнить об известной китайской истине, что – у каждого есть только свой сон [50].
Сон последний – Лица (Visage), 2009, посвящается матери Цая Минляна – в котором администрация фильма о Саломее, снимающегося в Париже Ли Кан-Шеном, разыскивает по всему Парижу пропавших – Антуана = Жана-Пьера Лео, играющего роль царя Ирода, а также оленя – играющего не понятно кого. В кафе, где была назначена встреча с Антуаном, появляется Ли Кан-Шен и поднятое им перышко выбрасывает его в – другое пространство, в котором его мать еще была жива и измельчала мясо большим ножом на их общей кухне. У Антуана умрет любимая птичка Тити и он похоронит ее на Пьер-Лашез, а у Кан-Шена – мать. Он прервет съемки, улетит из Парижа в Тайбэй, где вода будет вырываться из крана, прорвет трубу и затопит комнату, несмотря на все попытки Кан-Шена попытаться использовать все сосуды (=пустоты), чтобы ее остановить (=успокоить), чтобы залатать/ заткнуть дыры из которых она вырывается. Теперь, на своей одинокой кухне в квартире уже другой, чем в Который там час?, но все с той же оливковой пароваркой, и тем же большим аквариумом и большой рыбой в нем, ставшей отцом Сяо-Кана, уже сам Кан-Шен будет измельчать все тем же ножом мясо, и жарить скатанные из него мясные шарики. Вместе с ним в квартире, чтобы поддержать и вернуть к съемкам как можно быстрее, поселится продюсер фильма– Фанни Ардан. Пока он спит, она будет листать книги о Трюффо, а потом ляжет рядом и обнимет Кана, в то время как дух его матери будет есть суп.
Олень конечной же будет найден, как и Антуан, правда с разбитым носом, из-за чего он отказывается сниматься. Но все будет улажено. И когда они останутся наедине с Кан-Шеном, то узнают друг в друге себя – даже несмотря на то, что не владеют общим языком, не могут объясниться и будут долго блуждать в зеркалах, посреди своих бесчисленных отражений. К съемкам вернется и Кан-Шен и в затопленном водой андеграунде парижской канализации будет снимать сцену, в которой Летисиа Каста ляжет рядом и обнимет лежащего на плывущем матраце обнаженного мужчину, а потом, конечно, станцует свой знаменитый танец .
В Париже будет идти не тайбэйский проливной дождь, но – последний весенний снег – теплый и редкий, а персонажи с легкостью перышка поднятого Сяо-Каном – перемещаться из яви – в сон, где Саломея = Летисия Каста, о которой Paris Match писал, что в ней реинкарнированы души всех звезд 50-х [51], поет по-китайски, полностью обнажается и даже – снимается без грима; из сна – в кино, где Жан-Пьер Лео – по словам Жиля Делеза, «образцовый актер кинематографа поз и повадок» [52], играет – что может быть абсурднее, царя Ирода; из кино – в реальность, где он же заблудится среди отражений в зеркалах, установленных на съемочной площадке в парке Тюильри и разбивает себе нос; из отражения на амальгаме зеркал – в то, что в них отражается.
Вообще-то, уже давно было бы пора сказать об укорененной в китайской традиционной повествовательной литературе способности Цая производить признаваемые высшими формами этой литературы – цитаты, аллюзии, намеки [53]. Они заливают фильмы Цая, как вода пол. Цай снимает одних и тех же актеров, показывает одни и те же вещи – например, уже упоминавшуюся красную пароварку и оливковую пароварку, рулоны бумаги, аквариум с рыбой и т.п., так что они постоянно намекают друг на друга, дает образы являющиеся символами китайской классической традиции, подразумевает, со времен, наверное, Да здравствует Любовь, какие-то реальные газетные истории, автобиографические мотивы, о которых говорит в своих интервью [54], вводит музыкальные номера, ссылающиеся на тайванские мюзиклы 50-60-х, показывает реальные кадры передач, идущих по TV, и дает радиотрансляции. А Летисию Каста он выбрал, мне кажется, из-за того, что в ней «реинкарнированы души всех звезд 50-х». Даже создание каждого фильма Цая, начиная с Да здравствует, Любовь, обрастает забавными историями, на которые можно найти аллюзии, намеки в фильме. С одной стороны Цай так любит рассказывать, что он хотел снять и из-за чего что-то изменилось в итоге, с другой стороны всем становятся известны его «хулиганские» выходки, когда к юбилею Моцарта снимается фильм, в котором звучит только часть из Волшебной флейты (Не хочу спать в одиночестве), а на деньги Лувра, для обеспечения его рекламы – Лица, в которых Лувр появляется в кадре, где Жан-Пьер Лео вылезает из дыры внизу стены под Ионном Крестителем работы Леонардо да Винчи. Цай, наверное, единственный крупный кинорежиссер, который – для производство подобных вещей – завел и регулярно ведет свой блог в интернете [55] – правда, как это мог сделать только Цай – по-китайски, который в силу этого судя по статистике на сайте, мало кто читает, однако – который охотно цитируют после перевода на английский.

кадр из фильма «Лица» (Visage, 2009)
Цитата – как говорил Мандельштам – есть цикада. И именно как две цикады в самом, может быть, синефильском во всем кинематографе эпизоде будут переговариваться не говорящие на общем языке Кан-Шен и Антуан = Жан-Пьер Лео. – Пьер-Паоло Пазолини – говорит Антуан/ Жан-Пьер Лео, – Феллини – отвечает ему Ли Кан-Шен, и берет инициативу в свои руки – Антониони. – Орсон Уэллс – всплескивает руками Антуан и продолжает, никому и никогда не уступая, он кажется и умер в кино всего один раз – у Годара, которого кстати не назовут – Мурнау. Но Ли-Кан Шен вообще ни разу не умирал – Трюффо – напомнит он. – Карл-Теодор Дрейер – как-то уж очень проигнорировав имя своего первооткрывателя восхитится Жан-Пьер Лео. Я не смог разобрать, чем ответил Кан-Шен, но Жан-Пьер Лео сказал – Чарли Чаплин и Бастер Китон. Но на этом не успокоился – продекламировал – Мидзогуши, и снова – Орсон Уэллс, Леди из Шанхая – подвел черту под диалогом.
Синефильская упоминательная способность Цая в также очень значительна. Я уже вскользь упоминал некоторые из его синефильских аллюзий, но разыскивать исследовать их дальше мне хотелось бы меньше всего. И я лишь упомяну лишь настойчиво предлагаемые в текущем сне блуждание в зеркалах отсылающее к Леди из Шанхая Уэллса, и подземелье – здесь, парижской – канализации из связанного с именем Уэллса же Третьего человека Кэрола Рида, и конечно ссылку на 400 ударов Трюффо, конечно.
Аллюзии, цитаты, намеки постоянно накапливаются – от фильма к фильму, и понятно что достигают своего предела именно в – Лицах, где соотносимы разве что с упоминательной способностью Джойса, а их интерпретация – в парадигме ли китайской традиции, о которой я упоминал прежде, киноведческая или синефильская, их раскрытие – всех этих милых мелочей – становятся бессмысленны, само понимание – бессмысленно [56], в силу хотя бы того, что они – понимание, интерпретация – уходят в тот первичный бессознательный процесс, который, согласно на мой взгляд величайшему открытию Лакана, по своей структуре соответствует структуре Языка. Любого Языка, в т.ч. кино-языка – элементами которого и являются сами символы. Кино, в отличие от литературы, это то, что вызывает навязчивую потребность в интерпретации, но именно интерпретация убивает и само кино.
Одной из важнейших вещей, которые происходят в фильме, является то, что Цай окончательно устанавливает тождество между – Ли Кан-Шеном, Ли Сяо-Каном, Цаем Минляном, Аунтуаном Дюанелем и Жаном Пьером Лео. Это происходит, когда Ли Кан-Шен сталкивается с самим собой в Париже – в облике Жана-Пьера Лео. И даже то, что двойники совершенно не похожи, ничуть не вызывает сомнения в их тождественности – как это и бывает – во сне. С одной стороны это приводит к желанию продолжить этот ряд, установить аналогичное соответствие и для женских персонажей, а потом между обоими – женским и мужским рядами, в итоге – между всем и всем – идеальная даосская установка. С другой стороны, это приводит к – пределу функционирования кинематографа как сна с его игнорированием принципа непротиворечивости, которое становится здесь – тотальным. В истории об иудейской принцессе Саломее зачем-то нужны зеркала, установленные среди деревьев в парке Тюильри, искусственный снег, олень, андеграунды парижской канализации и т.п. Количество «противоречий», снимаемых только в состоянии сновидения в этом фильме превышает любой другой фильм Цая – возможно, их можно найти в каждом плане, также как Фанни Ардан находит потерянную в искусственном снегу парка Тюильри соскользнувшую чуть ранее туфлю. Таким образом, если говорить о нарративе, то он складывается из совершенно бессвязных, не следующих никакой логике планов – особенно во второй половине фильма.
В этом фильме Цая нет предельно длинных, затрудненных темнотой планов, хотя есть один длинный план в котором – почти рембрандтовская светотень (около 80-й минуты). Но все-таки именно здесь эстетика медленного доведена до своего – предела. В то время как камера в современном кино может двигаться по любым – самым замысловатым траекториям, которые даже не мог представить себе Николас Рей, впервые в They live in the night (1949) осуществивший съемки с вертолета, более того – когда камера стала всепроникающей – ее можно ввести даже в человеческий желудок или анус – длинный, предельно статичный, предельно выверенный – до половины соска приоткрытого лифом Летисии Каста – взгляд Цая становится абсолютно абстрактным – как Черный квадрат, в который складывается окно, которое все та же Летисия Каста заклеивает черным скотчем. Все что позволено взгляду (= камере), это – менять свое положение относительно плоскости на которой она установлена – от очень низкого, до – максимально высокого.
Известный китайский афоризм гласит, что «вещи, достигнув своего предела, претерпевают превращения» [57]. Применительно к фильму Цая его хотелось бы прочитать иначе – «если вещи претерпевают превращение, значит они достигли своего предела».
И главное, окончательное превращение, которое претерпевается в этом сне, превращение Цая– Минляна = Ли Кан-Шена = Жан-Пьера Лео = Антуана Дюанеля = Ли Сяо-Кана. Несмотря на всю авангардистcкую, абстракционистcкую эстетику, этот сон становится самым трогательным фильмом Цая – оставшийся без отца в Который там час?, а теперь и без – матери – Ли Кан-шен/ Сяо-Кан/ Цай Минлян перестают быть – собой, достигает своего предела. Теперь – после смерти родителей – он занимает их место – и – так же как раньше это делала его мать, рубит на кухне мясо ее – теперь своим – тяжелым ножом, тем самым, которым в Капризном облаке выковыривал из асфальта впрессованный туда ключ от чемодана Шиан-Чуй. Именно сон, который согласно китайской традиции, «есть, помимо всего прочего, мир вечного одиночества» [58] – т.е. мир смерти, именно здесь – в полупрозрачном весеннем Париже – городе, где главная улица – Елисейские поля – уводит в мир мертвых – способен осуществить – последнее превращение – позволить – пережить это превращение, и именно эта сновидческая эстетика способна работать там, где нужно дать внутреннее переживания взрослого человека, переживающего смерть своей матери, раскрывая их через – как это принято в китайской традиции – мир сновидений [59]. Только в сновидении можно повторить – передать ту трогательность, с которой человек вспоминает – умершего – но все равно живого для него – отца, или – мать, т.е. – как я уже писал – выявить подлинную, изначальную сущность человеческих от/с-ношений, сближения и близости – невыразимую и интимную, которую можно в китайской традиции описать как сущность сосущестования инь и ян. И самая трогательная сцена этого сна – там где Ли Кан-Шен растирает кремом кожу живота своей умирающей матери – ту кожу, под которым она его когда-то – хранила.
А вообще, ближе всего в китайской традиции к сну подобрался – сад. Созерцание сада в своем корне имело целиком сновидческие свойства – как писал не раз цитировавшийся выше В.В. Малявин – «здесь как во сне, вещи кажутся не такими, каковы они на самом деле, и наблюдатель со всех сторон окружен обманными видами: близкое видится далеким, малое – большим, а далекое и большое может стать составной частью миниатюрной композиции» [60]. И даже, если отказаться от концепции сна, то композицию, которую в итоге образуют сюжеты Цая Минляна можно вполне сопоставить с пространственной композицией китайского сада, являющегося «прообразом бытия Дао как сообщительности внутреннего и внешнего». Она – композиция – «предлагает нам смотреть на мир одновременно «разными глазами»; непрерывно странствовать во времени и пространстве и, стало быть, всегда слышать в сердце музыкальное крещендо «вечно вьющейся нити» Срединного Пути» [61].
Впрочем, мы смотрим сны, не из-за того что хотим их понять, или даже не из-за того, что хотим их смотреть, или хотим увидеть что-то новое – но – потому что – впадаем в это состояние – сновидения, попадаем в зависимость от него – как впадает пациент в зависимость от своего психоаналитика, или один из любовников – впадает в зависимость от другого, или – ребенок в зависимость от своей матери, или – отца, или – человек в зависимость от наследованной им – культуры, религии, традиции.
Нет, мы смотрим сны по той же причине, по которой – умираем.
1 Термин Базена, который он специально разработал для того нового типа образов, который по его мнению сформировал итальянский неореализм. См. подробнее, Ж. Делез. Кино, М. 2004. Стр. 291.
2 Термины введены Ж. Делезом для описания экспериментального кино, наследовавшего в первую очередь новой волне. См. Делез. Кино, стр. 506-537.
3 См. Делез. Кино, стр. 295.
4 См. текст «Дар клише» О. Аронсона Дар клише в его книге Коммуникативный образ, М, 2007, стр. 283-289.
5 См. Малявин. Сумерки Дао, М. 2003. Стр. 51. «В зрелых формах повествовательной литературы Китая … любое событие может задать новый сюжет… Высшие же формы китайской словесности – скрытые цитаты, аллюзии, всевозможные намеки…».
6 Малявин. Сумерки Дао, стр. 57.
7 См. Фрейд. Бессознательное, где Фрейд называет четыре основных свойства, которые характеризуют первичный – т.е. бессознательный – процесс: 1) игнорирование принципа непротиворечия, 2) игнорирование времени, 3) игнорирование реальности, 4) крайняя подвижность интенсивностей нагрузки (= свободной энергии). Цит. по К. Метц. Воображаемое означающее. М, 2010, стр. 276.
8 Сама китайская повествовательная литература пришла к аналогичному пониманию своей укорененности в сновидении. «Из страсти происходит сон, из сна происходит пьеса» – писал известнейший китайский драматург XVII в. Тан Сяньцзу. (см. Малявин. Сумерки Дао, стр. 146). Также о теме сновидения в китайской литературе и даосской концептуальности см. там же, стр. 152-154.
9 См. ответ Цай Минляна в интервью «When I originally wrote the script, I wanted a ray of hope at the end. And so the original ending of the film was, after walking and walking and walking in the park, the woman decides that yes, she would like to extend her hand and ask for love. So she goes back to the apartment and waits for the sleeping man. That was the original ending. Then I waited for the new park to open in Taipei. And when it opened, I saw that it was the same as a few days before, nothing had changed. It was in no shape to open, but it opened. And with that disappointment in my heart, there was no way I could shoot the original ending. And so this is how the ending came about». http://www.menggang.com/movie/taiwan/caiml/vivelamour/e-vivelamour-b.html
10 В качестве исключения можно привести лишь снятые мельком сзади со спины моющиеся в бане мужчины в Реке, и голую попу мужчины в Лицах.
11 О значении сна в китайской живописи см. Малявин. Сумерки Дао, стр. 200. Так, Малявин сообщает о позднеминских художниках, вознамерившихся писать только картины на тему «Странствия во сне среди гор и вод». О группе «пейзажистов сновидений» см. стр. 200. Истоки же сновидческой сущности китайской традиции Маляев видит в даосизме. См. стр. 55. «В китайской традиции слово сон (мэн) означает и сновидение, и восприимчивость духа к своей внутренней глубине, что равнозначно просветленности сознания. В таком смешении понятий есть своя логика: если мы отказываемся разграничивать субъект и объект, единственным реальным состоянием души для нас становится именно сон, точнее – греза, предполагающая полную открытость сознания миру и потому упраздняющая как субъективное «я», так и «объективную действительность… Сон переживается даже интенсивнее и глубже, чем явь. Именно во сне нам открывается высшая ясность духа, высветляющая символическую глубину опыта… В мире грез нет ничего установленного, ничего исторического; пребывание в нем избавляет от привязанности к одному-единственному «истинному» образу, которая, возможно, служит самым глубоким источником острого чувства трагизма жизни и не менее острых неврозов на Западе с его заданием и привычкой искать «истинно сущее». Сон не дает «объективного знания», но открывает нечто новое и притом не внушает беспокойства; видеть сны воистину сладко. И, наконец, как стихия метаморфоз, сталкивающая с пределом опыта, сон не может не внушать опыта пробуждения. Подлинный покой доступен тому, кто умеет бодрствовать во сне.».
12 Именно так окрикает его режиссер на 10:45 по хронометражу.
13 См. описания сна о человеке и носороге у К. Метца. Воображаемое означающее, стр. 297-298. «Я видел во сне Х. (одного из моих знакомых) и носорога. Я совершенно уверен в том, что это Х., и совершенно уверен, что это носорог: уверенность и в том и в другом я сохраню, когда проснусь. Но во сне я был уверен и еще в одном: в том, что это одно и то же существо; очевидному единству сновидного образа нисколько не угрожало то, что Х. и носорог – это разные существа, что в моем сне устанавливалось также совершенно отчетливо».
14 См. Малявин. Сумерки Дао. Стр. 147-148. Волшебная обезьяна – Сунь Укун, родился из камня в начале времен, и способен принимать любой облик, как в сновидении – переживать все возможные в мире жизни.
15 «Работа художника, выявляющего только для того, чтобы превзойти все выраженное не может не быть пропитана иронией; такой художник не может не смеяться именно тогда, когда он совершенно серьезен». См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 6.
16 Первый план длится с конца 15й по начало 17й минуты, где Сяо-Кан занимается сексом с Шиан-Чуй, сразу же за ним идет план длящийся с начала 17й по начало 20-й минуты. На нем в темноте различим лишь лежащий на спине человек, укрытый шафрановым полотенцем. Позже он перевернется на бок, и подожмет к животу ноги, который в итоге окажется отцом Сяо-Кана. Третий подобный план длится с конца 57й минуты до конца 61-й. На нем отец Сяо-Кана, приведшим в баню мальчика, снятого им чуть ранее возле тайбэйского Макдональдса. При этом с конца 57й минуты по середину 60й в кадре вообще почти ничего не видно, а в оставшиеся две минуты видно что один из мужчин мастурбирует другому. Наконец, в финале с начала 86й минуты по начало 98й минуты следует несколько почти неразличимых друг от друга «темных» планов, снятых в сауне. Сначала две минуты камера следует сзади за Сяо-каном идущим по коридору сауны (снято с плеча), затем неподвижные планы (1:28:10-1:29:30) и (до -1:29:56) Сяо-кан в комнате; далее человек идущий по коридору, который оказывается Сяо-каном, снятый с едва заметным приближением и поворотом камеры, следуя за открывающим дверь Сяо-каном до 1:31:29, и наконец до 1:37:00 – Сяо-кан и неизвестный мужчина к концу плана «проявляющийся» в его отца, мастурбирующий ему.
17 См. интервью 2006 г. http://theeveningclass.blogspot.com/2006/09/2006-tiff-evening-class-interview-with.html
18 Сам Цай говорил в интервью 2002 г., что он очень мало пользовался сценарием при съемках этого фильма. См. «Of all my films, The Hole is actually the film where I used least a scenario.» http://archive.sensesofcinema.com/contents/02/20/tsai_interview.html
19 См. климатическую диаграмму осадков выпадающих в Тайбэе в Lonely Planet. Taibei, ed. 7th. p. 333.
20 См. мой анализ различий документального материала, легшего в основу Пленницы пустыни Депардона и игрового фильма в этом же номере.
21 См. Чжуан-Цзы, в кн. Чжуан-Цзы, Ле Цзы, М, 1995, гл.2, стр. 64.
22 Сам Цай, размышляя об этом, в своем интервью 2002 г. говорит следующее: «I like to film in hotel rooms, in elevators or on moving staircases. What counts is that the space itself is very clearly divided from the rest of the world. This might have to do with the subconscious. I do not like to have too many eyes focussed on me. And I cannot feel safe until I have excluded these eyes. This means I have to create boundaries. In my work I can do this». http://archive.sensesofcinema.com/contents/02/20/tsai_interview.html
23 См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 45.
24 См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 293.
25 См. статья В.Н. Топорова Рыбы в энциклопедии Мифы народов мира. Стр. 393.
26 См. интервью 2002 г. с ним. «That fish lives in the house of Hsiao-Kang’s family, and in a way for me it is the father of Hsiao-Kang. I almost made a slip of the tongue, I wanted to say: that fish is the father of Hsiao-Kang…». http://archive.sensesofcinema.com/contents/02/20/tsai_interview.html
27 О том, что Париж в фильме является репрезентацией страны смерти, см. например текст Fran Martin. The European Undead: Tsai Ming-Liang’s Temporal Disphoria. См. http://archive.sensesofcinema.com/contents/03/27/tsai_european_undead.html
28 См. из интервью 2002 г. с Цаем. «What Time is it There? is my first film made with a truly finished scenario. Because I couldn’t find financing to make this film I had a lot of time to work on the script…». http://archive.sensesofcinema.com/contents/02/20/tsai_interview.html
29 См. из интервью 2002 г. с ним. «NL: The scene where Hsiao-Kang pees in the plastic bag, was that written? TML: Yes, that was already in the script. It comes from my own experience. NL:Also the plastic bag? TML: Yes. When my father died I became very much afraid of the dark. I thought I would see all sorts of things in the dark. Just a few days ago, I was in Switzerland, in a hotel. When I closed my eyes I saw a person in front of me. I am scared of the dark. I always think there is a kind of space that opens up in the dark. A month after my father passed away I didn’t dare to go to the bathroom at night. So I had these bags.» http://archive.sensesofcinema.com/contents/02/20/tsai_interview.html
30 Малявин. Сумерки Дао. Стр. 247.
31 Она снялась во второстепенных ролях в двух фильмах Эдварда Янга – A Brighter Summer Day (1991) и A Confucion Confusion (1994).
32 Малявин. Сумерки Дао. Стр. 247.
33 См. порно-эпизод на 45 мин.
34 «Именно потому, что … тело бесформенно и пустотно, кожа, одежда, всяческий покров мыслились в качестве его существеннейших атрибутов, так что китайское искусство вовсе не знало «обнаженной натуры». См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 54.
35 См. о символике воды Малявин. Сумерки Дао, стр. 318-319.
36 22 мин. См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 229. Образ Дракона – «универсальный символ превращения. Дракон соединяет в себе черты рыбы, зверя и птицы, зимующий в водоемах, а весной взлетающий в небеса, что воплощает в себе единство мира в его переменах и творческую силу метаморфоз.»
37 См. http://www.imdb.com/title/tt0445760/trivia
38 См. инфо http://www.imdb.com/title/tt0060635/
39 Ли Кан-Шен появляется лишь в начале 69й минуты, т.е. за чуть более чем 10 минут до конца, чтобы перемотать пленку, а позже именно он в последний раз опускает железный занавес на вход в фоей кинотеатра.
40 См. http://www.kinoart.ru/magazine/01-2004/repertoire/hotel401/
41 В 61:04 зажигается свет в зале, где не оказывается ни одного зрителя, в 64:06 Чен Шиан-Чуй начинает убирать зал, что длится до 66:23 – один длинный неподвижный план. Сам фильм является самым коротким из полнометражных у Цая и длится 81 мин.
42 См. например рецензия Елены Плаховой – http://www.kinoart.ru/magazine/01-2004/repertoire/hotel401/
43 См. о нем http://www.imdb.com/title/tt0105859/
44 См. http://www.imdb.com/title/tt0060635/trivia
45 См. http://www.kinoart.ru/magazine/01-2004/repertoire/hotel401/
46 О приемах экранирования действительности и его значении см. Малявин. Сумерки Дао, стр. 291.
47 http://karagarga.net/details.php?id=81129
48 См. Чжуан Цзы, гл. 2, стр. 73.
49 См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 219.
50 См. например, Малявин. Сумерки Дао, стр. 279.
51 Цит. по Кино. Афиша, 2004, 2-е изд., стр. 48.
52 Жиль Делез. Кино. Стр. 511.
53 См. Малявин. Сумерки Дао. Стр. 51. «В зрелых формах повествовательной литературы Китая … любое событие может задать новый сюжет… Высшие же формы китайской словесности – скрытые цитаты, аллюзии, всевозможные намеки…».
54 В частности Лица начинаются с истории случившейся в реальной жизни с Цаем и Ж.П. Лео перед съемками Которым там час? См. интервью с ним на DVD. Расшифровка в статье Fran Martin. The European Undead: Tsai Ming-Liang’s Temporal Disphoria. “My first appointment with Jean-Pierre L?aud in Paris was in a caf? that he frequents. However, he got the time wrong and thought that I was late. He left without waiting, and I only found his empty cup.» http://archive.sensesofcinema.com/contents/03/27/tsai_european_undead.html
55 http://www.wretch.cc/blog/tsaidirector/12414044
56 Тут можно также вспомнить, что Фрейд постоянно напоминал, что работа сновидения не порождает смысла. См. К. Метц. Воображаемое означающее, стр. 278.
57 Цит. по Малявин. Сумерки Дао, стр. 4.
58 См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 196.
59 См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 44. «Самое знание здесь принимает здесь вид интимного переживания истины. Прежде всего истины сновидений как мира сугубо внутреннего и притом непрестанно обновляющегося».
60 См. Малявин. Сумерки Дао, стр. 343.
61 Там же, стр. 343.